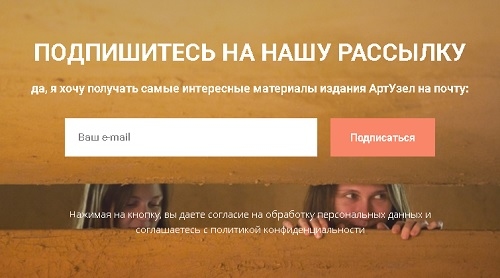Над интервью работали: Мария Назарова, Анна Киященко
Фото: Мария Назарова, "Перелетный кабак", ГТГ
С 10 по 31 марта в галерее "Перелетного кабака" прошла выставка Игоря Шелковского "Мимолетности", а с 15 декабря 2017 года по 20 мая 2018 года - "Город дорог" в Новой Третьяковке. Мы встретились с Игорем за завтраком в "Перелетном кабаке" и поговорили с ним об этих двух проектах, о поиске собственного визуального языка и о том, что приносит искусство в наш мир.

М.Н.: Во-первых, я бы хотела узнать про вашу выставку в «Перелетном кабаке». Как она у вас получилась, и почему вы решили ее сделать?
Игорь Шелковский: Ну, получилась как получилась. Результат вы видите здесь. Мне хотелось что-то яркое, потому что жизнь такая скучная и серая… В Париже какая-то фирма одежды когда-то сделала рекламу со слоганом «Жизнь слишком коротка, чтобы одеваться грустно». Я решил, что жизнь коротка, поэтому возьму яркие краски и сделаю серию таких работ. Технически ничего сложного нет – сами все видите. ДСП, краски и дерево.
Максим Боксер: Это не от того, что жизнь становится мрачнее?
Игорь Шелковский: Может быть и от этого. Я как-то на эту жизнь не обращаю внимания – не смотрю телевизор, из газет читаю только «Новую».
Мария Назарова: А как насчет выставки в «Новой Третьяковке»?
Игорь Шелковский: Она сейчас там идет, ее кстати продлили. Был небольшой перерыв из-за Биеннале, но сейчас она работает. Эта белая скульптура покрылась надписями. Я сам начал, ждал что это будет интересно. Ничего интересного люди не написали!
М.Н.: А что бы вы хотели, чтобы написали?
И.Ш.: Ну, стихи какие-нибудь…
Андрей Мучник: Там лежат какие-то карандаши?
И.Ш.: Нет, просто позволено написать. Она изначально не задумывалась интерактивной.
М.Б.: Добровинский [Евгений Добровинский - Графический дизайнер, член Союза дизайнеров и Союза художников России. Один их самых ярких и авторитетных мастеров российского графического дизайна - прим.ред.] для одного из проектов придумал как-то проект с надписями на заборах. Оказалось, что эти бетонные конструкции объединяют сушу. И он придумал шрифт, который укладывается в сетку – в эти квадратики. И была какая-то выставка с длинным высказыванием эти шрифтом. Это я к тому, что надписями должны очень вдохновлять.
М.Н.: Мне показалось, что эта выставка в Третьяковке получилась очень серьезной…
И.Ш.: Ну, мне предложили сделать выставку там. Ретроспективу не хотелось, да и для хорошего проекта этот зал мало годится – я люблю залы со стенами. Я предложил такую вещь: сделаю 10 макетов разных конструкций, потом мы выберем один и увеличим его в 20 раз. Они отдали выбранный макет на какую-то фабрику, и молодые ребята с большим энтузиазмом это сделали. Я очень доволен, как получилось в итоге.
М.Н.: Можно ли назвать ее тотальной инсталляцией?
И.Ш.: Нет, наверное, все-таки скульптура. Мне бы вообще хотелось многие мои вещи сделать большими. У меня в мастерской есть несколько работ до 3 метров – это тот размер, который мне позволяет сделать мастерская. Как я образно говорю, я достиг своего потолка.
Я думаю, такие большие работы могли бы быть применены на практике, если бы у нас был помягче климат. Если поставить такую скульптуру на какой-нибудь холм, она бы здорово держала пространство. В аэропорту Шарль де Голль стояла скульптура какого-то англичанина, и это было очень удобно, она помогала ориентироваться. То есть искусство должно как-то участвовать в жизни, но у нас это никому в голову не придет.

М.Б.: Кстати, когда мы делали эту выставку, мы поняли, что эти конструкции – макеты создания районов или совмещенных поселков, которые образуют целые города. И одну из стен мы по этому принципу и развесили. Если увеличить это, к примеру, в 1000 раз, то откроется потрясающий пейзаж.
И.Ш.: Москва еще такой город, где нет ансамбля – все перемешано. И даже новая Москва, хотя уж казалось бы – надо дать архитекторам задание сделать гармоничный район. Иногда есть красивые дома, но они очень разрозненные.
М.Н.: Эти два ваши проекта очень разные по настроению. Что на этой выставке было важно для вас?
И.Ш.: Я хотел вернуть краски. Весной не хватает цветовых витаминов – красок особо нет, все серое.
М.Н.: Как вы вообще решили стать художником?
И.Ш.: Меня просто ничего не интересовало. Я ходил в кружок по рисованию, любил ходить на выставки…
М.Н.: А потом? Ваш круг общения после окончания института был андерграундный. Как вы нашли свой художественный язык?
И.Ш.: Общение общением, а работы нужно делать самому. Я делал скульптуры, они меня больше интересовали.
М.Н.: Почему?
И.Ш.: Про живопись я как-то уже очень много знал – учился в училище, ходил на выставки. Про скульптуры мне никто ничего не рассказывал. Я случайно попал в дом творчества имени Корбовского, там был молодежный заезд и меня туда включили, хотя я не занимался этим профессионально. Там был Косолапов, Соков… Они что-то лепили, и там я сделал свои первые скульптуры. Я был самоучкой, и мне были интересны эксперименты.
М.Н.: А сейчас как?
И.Ш.: Сейчас это тоже эксперимент.
М.Б.: Я бы ваши рельефы назвал 3D-живописью.
И.Ш.: Да, я же их еще раскрашиваю. Но не скульптуры – это отдельно.

Владислав Ефимов: Вообще разговор о визуальном требует, как мне кажется, другого языка – сложно словами описать то, что мы видим. Как вы говорите о визуальном с другими художниками?
И.Ш.: Сейчас мы не говорим уже, а раньше в моей мастерской на Сретенке я снимал свои работы, приходили друзья и приносили свои. Там было две группы: молодежь – Боря Орлов, Дима Пригов, Слава Лебедев, я… А другая – Семенов-Амурский с учениками. Мы спорили.
В.Е.: На каком языке? Вы же не говорили «хорошо» и «плохо».
И.Ш.: Примерно так и говорили. Без всяких терминов – это уже дело искусствоведов. Мои работы очень визуальные – все, что видите, все так и есть.
В.Е.: Но все, что внесено в какое-то интеллектуальное пространство, описано каким-то языком. Художник, присутствуя в этом пространстве, понимает, что его работы будут описываться, интерпретироваться… Как вы к этому относитесь?
И.Ш.: Каждый интерпретирует как хочет – это уже не дело художника. Гертруду Стайн спросили, что ей нравится в работах Пикассо. Она ответила: «Мне нравится на них смотреть». Если нравится смотреть, задача выполнена. Также как с музыкой или литературой.
М.Н.: Что для вас было важно в жизни в Париже, как для художника?
И.Ш.: Возможность жить художественной жизнью. Я снимал маленькую комнату в центре, и после того, как впервые там я выставил свои работы, мне стали приходить приглашения на всякие выставки и открытия. Когда я туда приехал, жизнь там была очень интенсивная. Это было очень приятно и интересно. Атмосфера была очень дружественная. Сейчас таких вернисажей нет – на открытии три человека, выставка скучная… В последний раз меня возмутила выставка какой-то японской художнице в бывшей фабрике. Большая юбка на весь зал, и нужно было пробираться через подол к центру, а там стояли пробирки с ее запахами. По-моему, выставка так и называлась «Мои запахи». Это другое искусство – концептуальное, а для меня важна именно визуальная составляющая. Если вы открываете книгу, а там нет текста – это же никуда не годится. Нужно вернуться к истокам.
М.Н.: А истоки – это где?
И.Ш.: К пластическому искусству.
М.Н.: Какой период искусства вам ближе?
И.Ш.: Постимпрессионисты. Я на этом искусстве воспитался. После смерти Сталина Пушкинский музей стал вывешивать работы Клода Моне, Ван Гога, Пискассо. Я тогда поступил в училище, там пронесся слух, что вывесили Матисса. Это были цветы в голубой вазе – красота необыкновенная. Там стоял какой-то человек, мы с ним разговорились и пошли его провожать. Дошли пешком до его дома. Он пригласил нас на свою выставку, это был Семенов-Амурский. С тех пор мы сдружились.
В.Е.: Я хотел спросить про систему. В конце 20 века наука и искусство разобщились очень сильно, и языки стали очень разными. Искусство стало искать свою систему. Яркий пример – сигнальные системы Злотникова. Вот здесь, на этой выставке есть какая-то система?
И.Ш.: Нет, это я делал чисто интуитивно. Я у Юры Злотникова несколько раз спрашивал, что такое сигнальная система, он ужасно орал, потому что я этого не понимал. А я не знаю, что это!
Это чисто чувственная вещь – нас радуют яркие краски и игра с пространством.
В.Е: Просто я вижу проблему в переходе от интеллектуального искусства к искусству… нормальному.

Игорь Шелковский и Максим Боксер
И.Ш.: Я за классику – классические материалы. Не ищите в моих работах сверх чего-то. Здесь все ясно, как на ладони.
Это зависит от искусства и от художника. Для художника-концептуалиста важно пространство, важен музей. А есть искусство для человека, которое можно разместить у себя дома. Здесь сразу человеческие размеры, краски. Посмотрите на фотографии умирающего Малевича – стены увешаны его маленькими картинами.
В.Е.: Но у Малевича в картинах пространство расширяется – предполагается, что там есть еще что-то. А у вас пространство расширяется?
И.Ш.: В некоторых вещах – да. В Третьяковке как раз так и случилось. Семенов-Амурский снимал маленькую комнатку-мастерскую, и делал там маленькие работы. Он говорил: «Величина не есть величие». Я послушно кивал и разделял эту точку зрения, а потом подумал: если уменьшить египетскую пирамиду, останется что-нибудь от этого величия? Для скульптора масштаб важен.
На этой выставке тоже можно было нарисовать на холсте разные точки, но не было бы игры с пространством.
М.Н.: В начале разговора вы сказали, что искусство должно приносить пользу. Какую бы пользу могли принести ваши работы?
И.Ш.: Я в молодости отправился путешествовать по России, чтобы посмотреть, чем живут люди, и попал в город Кинешма. Там есть очень длинный забор, и на нем сохранилась надпись: «Искусство приносит в жизнь красоту и радость». Сколько ее не закрашивали, буквы все равно проступали.
М.Б.: Это-то и говорит о том, что страна у нас не визуальная. На холмах рядом с Оксфордом есть изображение белых лошадей, которая стоит там уже лет 500. И каждый год местные жители их очищают, сохраняют. Поколения живут рядом с этой лошадью, это уже место паломничество. А у нас же уже даже на этом заборе мысль выразили. Искусство-то где?
И.Ш.: Ну вот народное искусство… Эти костюмы, игрушки. Но в 20 веке оно перестало существовать.
В.Е.: И потом, во многом его придумали, как придумали сказки. Много додумали за народ.
И.Ш.: Я не знаю как сейчас, но лет 30 назад, на всех локальных ярмарках продавали коврики, расписанные умельцами. Это как раз то искусство, которое вне рассудочности. Люди покупают и получают от него удовольствие – яркие краски, приятные сюжеты.
Во Франции был один православный священник, который организовывал выставки. Ему в голову пришла идея – он созвал женщин, которые жили в ближайших городах и деревнях, и раздал им репродукции русского авангарда. Эти женщины должны были увеличить эти картинки. Они красили ткань, сшивали эти огромные полотна. Потом они сделали выставку этого шитья, и получилось очень красиво – увеличенные работы авангардистов, свет через них проходит… Потрясающе!