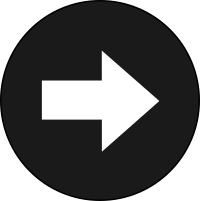«Медиаторы» памяти, культурная идентичность и Гамбургский Кунстферайн
С 19 июля до 10 августа в Чебоксарах пройдет II Чувашская биеннале современного искусства, которая реализуется в рамках гранта Президентского фонда культурных инициатив. Биеннале станет платформой для переосмысления локальных культурных контекстов и презентации того, как современное искусство может служить средством сохранения и актуализации традиционной культуры. В этом году в биеннале примут участие более 50 участников с работами в самых разных медиа, тема биеннале — «Дом о семи крыльях». Куратор II Чувашской биеннале современного искусства Ирина Конюхова рассказала о формировании концепции биеннале, образе «дома» в чувашской культуре и специфике кураторской работы.
Текст: Светлана Стадник

Как вы стали куратором II Чувашской биеннале современного искусства? Что вдохновило вас принять участие в этом проекте?
О Чувашской биеннале я узнала в 2022 году, когда мои коллеги выступили кураторами первого проекта. К сожалению, мне не удалось посетить ее лично. Однако когда был объявлен открытый конкурс на позицию куратора второй биеннале, я решила подать заявку. На тот момент я уже не имела институциональной привязки и работала как независимый куратор. Это позволило мне уделить несколько недель глубокому размышлению над темой, с которой бы хотелось выступить. В итоге я остановилась на вопросе дома и принадлежности — теме, которая волновала меня последние месяцы. Я рада, что именно этот концепт нашел отклик у команды биеннале.
Какую основную концепцию вы выбрали для II биеннале? Как она формировалась: был ли изначальный замысел задан заранее, или он трансформировался в процессе отбора работ?
Концепция биеннале получила название «Дом о семи крыльях». Оно заимствовано из поэтического эпоса Валема Ахуна, чувашского поэта и фольклориста. По одной из версий, предки чувашей вели кочевой образ жизни, каждый раз заново устанавливая юрты. Возведение жилища традиционно считалось женским делом, каркасом юрты служили семь канатов — «крыльев», поверх которых натягивались войлок и другие доступные материалы. Этот образ показался мне необычайно поэтичным: с одной стороны, он укоренен в локальной культуре, с другой — придает дому почти метафизическое значение, наделяет его характеристиками птицы.
Этот образ, на мой взгляд, близок моему поколению — поколению, которое часто перемещалось, училось и проживало в разных странах, говорит на нескольких языках, по-своему является «гражданином мира». В то же время подобный образ жизни постоянно возрождает вопрос идентичности и того, с чем именно мы хотим себя ассоциировать.
Тема была определена до объявления опен-колла, но изначально задумывалась как многослойная, допускающая широкий спектр интерпретаций. В рамках выставки представлены работы, затрагивающие темы детства и семейных связей, цифровых убежищ, утраченных корней, миграционного опыта и многого другого.

Айгуль Актаева, эскиз инсталляции «7_30»
Как вы видите связь между локальной культурой Чувашии и глобальными темами, которые вы исследуете?
Локальные формы укорененности, родства, ритуала зачастую отражают универсальные человеческие стремления к принадлежности и защите. В контексте малых народов России вопрос идентичности особенно остро связан с необходимостью выбора: человек растет и формируется на пересечении двух или более конкурирующих культурных полей. В чувашской культуре дом — это не только физическое пространство, но и центр духовной и родовой связи. Это место, где передается чувашский язык, семейные драгоценности, сохраняются ритуалы — где материальное тесно переплетено с сакральным.
На глобальном уровне «дом» — это и метафора идентичности, и тема миграции, потери, реконструкции себя в новых условиях. В этом смысле локальные элементы — например, традиционные формы жилища, орнаменты, — не просто этнографические детали. Это также и средства выражения культурной устойчивости, «медиаторы» памяти, формы сопротивления ассимиляции в условиях хрупкости и временности.
Вы говорите о доме и идентичности в контексте биеннале. Как вы считаете, что значит «дом» для современного человека? Почему именно «дом» стал центральной темой этой биеннале?
Для современного человека «дом» все чаще перестает быть лишь физическим местом и превращается в подвижное, многослойное понятие. Это безопасное пространство, где человек может быть собой. В то же время это место конфликтов: между прошлым и настоящим, оседлостью и перемещением, внутренним и внешним.
В 2019 году меня пригласили написать статью о моей идентичности (точнее, о ее эфемерности) для одного немецкого издания. В результате я написала текст, посвященный теме границ: личных, телесных и государственных. Я писала о барьерах, о том, почему мы стремимся выстраивать safe space, ограждая себя от вторжения со стороны других людей. Именно эта статья стала отправной точкой моих размышлений о доме, поскольку это, прежде всего, система границ: семьи, квартиры, языка. Эти барьеры оказываются необходимыми для самоопределения и развития. Они задают рамки, которые мы можем как принимать, так и стараться преодолеть.

Оля Махно, Intermezzo. Фото: Ксения Десятова
Как вы считаете, биеннале способствует сохранению и популяризации чувашской культуры или, наоборот, открывает ее для новых интерпретаций?
Биеннале, на мой взгляд, выполняет обе функции одновременно — и сохраняет, и переосмысляет. Это не противоречие, а естественное состояние живой культуры.
Насколько, по вашему мнению, подобные проекты способствуют развитию и популяризации современного искусства в таких регионах, как Чувашия, с высокой степенью значимости культурных и этнических традиций?
Я уверена, что региональные проекты в сфере современного искусства играют важнейшую роль в развитии культурной среды на местах. С одной стороны, они устанавливают диалог между центром и периферией. Позволяют регионам не просто воспроизводить заданные модели, а также участвовать в равноправном обмене идеями. Такое взаимодействие способствует не только культурному обмену, но и профессионализации местного художественного сообщества, расширяя его горизонты. С другой стороны, для самого региона биеннале представляет собой еще и привлекательный туристический повод — шанс открыть для себя город, его уникальность и контекст.
На сегодняшний день современные медиа — видеоарт, инсталляции, цифровое искусство — активнее используются в тематике традиций. Как, по-вашему, эти формы помогают раскрывать культурные особенности и идентичность?
Медиа или формат работы — это всего лишь инструмент. Те или иные инструменты имеют ограничения и предпосылки использования, но они не задают тему. О традициях можно размышлять как в классических медиа, так и в цифровых. Мне кажется, скорее важно то, насколько интересно в контексте медиума происходит сама рефлексия на заданную тему.

Поли Марко «Приданое»
Как выстроена пространственная логика биеннале? Какие тематические зоны выделены в пространствах, задействованных в экспозиции?
Основной площадкой биеннале стал Чувашский государственный академический драматический театр имени К. Иванова. Здание, выполненное в стиле сталинского ампира, построено по принципу симметрии — правая и левая его части почти зеркально повторяют друг друга. Внутреннее оформление также соответствует стилистике: колонны, барельефы, узорчатый паркет подчеркивают торжественность пространства. При формировании маршрута зрителя я старалась учитывать как архитектурные особенности, так и функциональное назначение каждой зоны.
Так, гардероб театра — полукруглый зал, расположенный чуть ниже уровня первого этажа — разбит пилястрами с зеркалами, которые отражаются друг в друге. В этом пространстве разместилась инсталляция Алены и Владимира Бамбуриных «Вариации тетрагональности памяти», создающая эффект переходного состояния между сном и реальностью, своего рода зазеркалье. Музыкальное сопровождение к работе написал сын авторов, что создает дополнительное измерение семейной памяти внутри инсталляции.
Одним из ключевых пространств стала Голубая гостиная. Это зал, который разделен на три тематических блока, объединенных темами родовой принадлежности и межпоколенческой связи. В этом части экспозиции я провожу параллели с природными структурами — ульями, жизнью насекомых, деревьями. Также я обращаюсь к личному, в том числе к воспоминаниям о бабушкином доме.
Экспозиционное пространство биеннале организовано в виде трех самостоятельных маршрутов. Тем не менее зритель свободен в передвижении и может знакомиться с работами вне жесткой навигации, выстраивая собственные ассоциативные и смысловые связи.

Марина Алаева «Куст кустарник»
Какая из кураторских задач показалась вам наиболее трудной в этом проекте? И, наоборот, что удалось воплотить быстрее и легче всего?
Пожалуй, в этот раз наиболее сложным стал технический аспект, так как биеннале будет проходить не в художественном музее, а на площадке, которая изначально не предполагает размещение большой экспозиции. На первый план выходят вопросы подбора помещений под нужды художника и выстраивание работ в соответствующую нарративную линию, продумывание маршрута зрителя. Такие вопросы, как безопасность и уместность работы в интерьере театра. А вот отбор работ на биеннале вызвал много энтузиазма у всей команды. Я бы сказала, что просматривание заявок — одна из самых приятных задач куратора.
Многие считают, что куратор — это своего рода связующее звено между художником и зрителем. Как вы ощущали эту роль в контексте биеннале? Что вы хотели донести до зрителя прежде всего?
Мне кажется, это утверждение верно в контексте персональной выставки, однако создание групповой выставки требует несколько других кураторских навыков. Моя задача как куратора — это не представить отдельных художников мини-выставками, а связать воедино разные по концепту и форме исполнения работы. Немаловажную роль здесь играет и само пространство, игра с ним, внимательное отношение к деталям архитектурного плана. Мне хотелось бы навести зрителя на размышление о своем собственном концепте дома, поскольку представленные работы затрагивают самые разные аспекты понятия и, я надеюсь, будут созвучны мыслям широкого круга людей.

Анна Гросицкая «Убежище»
Кто из современных кураторов или деятелей искусства вдохновляет вас в вашей профессиональной деятельности? Есть ли наставники или кумиры, на которых вы равняетесь при создании выставок?
У меня нет профессионального кураторского образования и академического художественно-исторического бэкграунда, хотя курсы по истории и теории искусства, в той или иной форме, проходят все учащиеся художественных академий. Поэтому я не берусь делать экспертные оценки деятельности других кураторов. Тем не менее важным опытом для меня стало участие в documenta 14 в качестве медиатора и экскурсовода. Именно тогда я научилась ценить экспозиционную логику и структурность, которую выстраивала кураторская команда проекта.
Особенно мне запомнились разделы выставки, за которые отвечала куратор из Индии Наташа Гинвала. С тех пор я с интересом слежу за её профессиональной деятельностью. Темы, с которыми она работает — феминизм, экология, коллективная память, — сами по себе не являются новыми. Однако мне видится высокая степень кураторского мастерства именно в подборе художников и в способе выстраивания между ними тонкого диалога.
Меня также вдохновляют художественные инициативы, связанные с демократическими процессами. Так, однажды более 150 художников одновременно вступили в Гамбургский Кунстферайн, работающий по принципу коллективного участия. Выразив недовольство кураторской стратегией институции, они инициировали внеочередные выборы директора. К сожалению, из-за формальной ошибки эти выборы были признаны недействительными и назначены следующие. Это очень интересный прецедент, показывающий возможности горизонтального управления.
Как вы подходите к выбору тем и направлений для своих выставок? Есть ли у вас какие-то личные художественные или культурные ориентиры, которые вы учитываете при формировании концепции?
Мне хотелось бы делать выставки и художественные проекты, которые были бы понятны не только художественному сообществу. Не скрывались бы от действительности в башне из слоновой кости и наигранном элитаризме. Эта установка и определяет темы, которые мне интересны.
Подробнее о II Чувашская биеннале современного искусства читайте по ссылке.