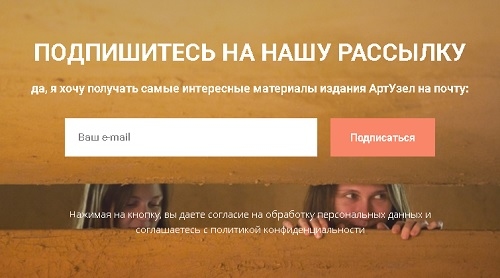Беседы. Людмила Горлова и Карина Караева об эстетике и фигуре рисующего художника
Предисловие и беседа: Карина Караева
Фото: Олег Татаркин
Последний раз с Людой Горловой я встречалась для того, чтобы обсудить ее выставку. После Люда вступила на территорию, с моей точки зрения, абсолютно неожиданную и авантюрную – она стала преподавать живопись. Особенность этой акции в том, что Люда не ставит своей задачей научить живописи, тем более, что к ней ходят «ученики», имеющие отношение к искусству по касательной (искусствоведы, критики, хранители коллекций…). Однако подобный возврат к живописи был мне интересен как оборотная сторона того, что по сути не существует, - изображение уже давно десакрализировало себя, постоянно переходя от своего станкового состояния в беспредметное. Выпускница училища 1905 года, одна из важнейших фигур, работающих на территории гендерного (читай политического) и психологического искусств, Люда Горлова создает художественную артель, в которой заново артикулируется язык живописи.
Для меня проект «Встречи на нейтральной полосе или Аварийное включение-2017» - обращение к изобразительности вообще, а живопись только наиболее эмоциональный лейбл, подразумевающий весь комплекс изобразительных художественных манипуляций. При том, что в информационном смысле мне сегодня уже не слишком важно, какими средствами «картинка» сделана и посредством чего демонстрируется. Важно - что это значит и что имеется ввиду. И, возможно, некоторая ее внутренняя дополнительная цепляющая сила. Если говорить именно о живописи как таковой, то наверно она - другая специфическая система координат. На сегодняшний день живопись воспринимается как метафора, упакованная в эмоцию, а эмоция сразу тянет оценочные параметры. Наверно, с возвращением изобразительной терминологии может быть связано перенесение внимания от политического дискурса деконструкции власти к психоаналитическому дискурсу проблем личности.
И на самом деле я не мыслю своей роли как преподавательской – я только собиралась попровоцировать вокруг изобразительности встречи различных участников нашего московского арт-процесса, потому что мне была интересна такая компания. Художнику необходима среда, долго находиться один на один со своей индивидуальностью изнурительно. Но мне хотелось созвать сообщество не из художников, которых за время моего отшельничества выросло целое племя, рационализма которых я опасалась. И, конечно, было бы странно предполагать, что молодые интеллектуалы станут оглядываться на такие наивные вещи, как изображение. Я представляла, что, обретя место и повод, как это происходило хотя бы в бытность импрессионистов, ежевечерне собиравшихся в кафе и мастерских, московская арт-среда начнет в неформальной обстановке обмениваться и фонтанировать идеями о дальнейших арт-стратегиях, а мне останется лишь стимулировать коллективный поиск практической информацией с выдержками из академического алфавита и другими деталями из «кухни художника». Хотелось бы определить объединенными усилиями, какой диапазон изобразительных средств, стратегий и что вообще сегодня в наличии в арсенале художника.
Мне кажется, изображение имеет свойство тем более интриговать, чем более пытаешься без него обойтись. Меня, например, больше привлекает изображение свободное и от прямой наррации и вообще от любых ограничений. То, на чем бы я в своем варианте настаивала и что бы я не стала подвергать полному растворению, не отвергая при этом никаких экспериментов, это плоскость или, во всяком случае, поверхность и границы или край листа как страховочный буфер и гарантию автономии.

Карина Караева: Мой первый вопрос будет касаться твоего отношения к процессам, как мне кажется, сегодняшней сакрализации искусства, его новой сакрализации. С моей точки зрения, как-то стало очевидно, что всевозможные искусственные коды и корпусы, которые придавались искусству, немного сдвинулись снова в сторону эстетики. Как тебе кажется, можно ли этот процесс назвать возвращением к сакрализации?
Людмила Горлова: С "колокольни" художника мне кажется, что некоторый сдвиг сегодня в сторону эстетики, есть просто определенная рабочая манипуляция со средствами из лексикона художника, наполненными личными и всеобщими международно-понятными смыслами, не более чем оперирование модулем внутреннего творческого процесса. Эстетическая составляющая в последнее время имела тенденцию быть вытесненной в силу определенных причин и определенной ситуации. Но все развивается, процесс идет, прошлая ситуация как-то разрешилась и все переменилось. На следующем этапе снова возникает внутренний запрос на эстетические средства, но я полагаю это, конечно, будет уже другая новая эстетика, вернуться не получится и это ясно.
Обычно художник предпринимает множество специальных разнонаправленных усилий, реализуя свое высказывание. В творческом процессе все взаимосвязано. Любое касание нуждается в противовесе. Кивок в сторону эстетического я вижу не более чем автоматический баланс, как баланс, например, белого в объективе фотокамеры и нормальную реакцию на предыдущее положение маятника.
Меня это не пугает. Я сама уже давно замечаю, что отношусь к любому изображению, прежде всего, как к сигналу, не взирая на его форму и медиа. Но меня коробит централизованное решение в искусстве сровнять воздействия всех медиа, при всем моем абсолютном согласии в их изначальном сегодняшнем равенстве. В смысле, воздействие и восприятие одного медиа не заменяет другого. И здесь наверно реванш не уместен, даже по отношении к «бывшим».
Невозможно искусственно продлевать жизнь каких-либо тенденций. Контекст деконструкции по идее не позволяет художнику застревать на одной только определенной точке, как краеугольном камне, но скорее строить свою парадигму в направлении пунктов новых возникающих проблем. Все движется, хотя вряд ли этот процесс линейный.
Я не думаю, что есть смысл говорить о сакрализации в смысле реставрации. После концептуализма, как и любого нового опыта, уже невозможно вернуться к прежнему состоянию. Навык интерпретации после концептуализма – другое иное понимание объекта. Поэтому я представляю эстетическую составляющую скорее очередной попыткой абгрэида и освобождением от прирастающих лишних формально-бюрократизирующих пут и вредных для искусства ограничений.
Сейчас, кстати, распространена ситуация, когда выставляемый объект приобретает эстетическую окраску, которой в нем сначала вообще нет, но есть политика и контекст искусства в виде выставочного пространства, и в этом контексте работа начинает маркироваться как произведение искусства, а значит сакрализируется, следовательно, приобретает эстетическую окраску. То есть политикой подменено отсутствующее эстетическое. Но вследствие такой манипуляции, вроде как, эстетическое искусственно приращивается.

К.К.: Твоя практика в искусстве может быть каким-то образом сакрализирована? Все же ты работаешь с одной стороны, - с архетипом восприятия, с другой – пытаешься расширить контекст транссостояния изображения и жеста.
Л.Г.: Поскольку мне интересны клише и штампы массового сознания, в том числе на уровне изображения, я неизбежно обращаюсь к архетипу, к вопросу о транссостоянии. Но мне трудно сказать насколько манипуляционные крючки можно назвать инструментом, способствующем сакрализации.
Возможно какой-то ракурс, имеющий отношение к сакрализации в социологическом смысле, появляется сегодня в тенденции искусства снова ориентироваться на собственные смыслы, а не социальность и массовую зрительскую аудиторию, как это было в последние годы у нас. Но для этого наверно есть какой-то другой термин.
К.К.: Могла бы ты определить, или наметить, как с твоей точки зрения может развиваться искусство. С учетом того, что ты долгое время сознательно «отключила» себя от процесса, а сейчас возвращаешься с новыми задачами.
Л.Г.: Да. Мое отключение было отчасти вынужденным решением. Очень тяжелым, но в чем-то полезным. Свобода творчества начинается в тот момент, когда нечего терять, и она основной наверно инструмент в арсенале средств художника, когда начинаешь работать при полном отсутствии зрителя или арт-механизма. Удается увидеть заново перспективу какого-то нового развития. По-моему, сейчас наше искусство оказалось в странном промежутке между, ни западная арт-стратегия, ни бывшая собственная не могут уже быть применимы в нынешней ситуации. Теряют смысл кажется и запреты, и недавние ценности, я имею ввиду уже последние 20-30 лет. Весь мир поменялся в самом глобальном смысле. Все опять должно начаться заново – культурное поле на сегодняшний момент свободно, от всего, в том числе от какой-либо поддержки. Мотивации дадаистов, например, мне становятся все более понятны.
Теперь искусство скорее всего снова вспомнит про эстетику и картинку в каком-то новом ее понимании, чтобы восстановить некоторый перекос восприятия последних лет и снова обрести утерянный предмет искусства. Любопытно посмотреть, что же именно это будет. Возможно, конфликты и дискуссии приобретут эстетический ракурс. Но потом, наверно, как только эта структура кристаллизируется, окрепнет и перестанет быть гибкой, она снова распадется под воздействием импульсов нового времени. Как обычно.
Курсирование между предметным и беспредметным по замысловатой траектории стало уже обычным свойством изображения. Возможно дальнейшие поиски предмета искусства, его символического содержания и смыслов будут связаны с вопросами какого-то другого порядка – например, другого видения и даже другой оптики применительно к изображению или как-то так. Реальность многообразна и не только в силу собственной психотической личности художника. Конечно, видит мозг, но все-таки через глаз, как средство. Понятно, что разнообразие средств имеет прямое отношение к языку многозначного высказывания.
Фигура «рисующего художника» начинает приобретать новый смысл. «Картинка» в различных ее форматах может быть рассмотрена в качестве стратегии преодоления кризиса идей.

К.К.: Имманентное состояние искусства – это на твой взгляд один из путей его развития, или только так оно способно вступать во взаимоотношения с реальностью и зрителем? Отсюда вопрос – насколько для тебя необходимо зрительское участие в реализации твоих работ?
Л.Г.: Я думаю, только так оно способно, хотя и с нюансами, и с оговорками. Конечно время от времени искусство нуждается в иллюзии доступности и открытости, другом новом опыте и подтоке энергии, возвращаясь потом к своему имманентному состоянию.
Для меня зрительское участие совершенно необходимо. Зритель как виртуальный собеседник или сибс-соперник, с которым я как художник могу быть в отношениях близнеца или трикстера. Зритель может быть и массовым среднестатистическим, но для меня главный зритель - брат по цеху, только с ним наиболее успешно возникает иллюзия понимания с полуслова и символический обмен на эзоповом языке. Взаимное конвертирование смыслов и значений - одна из самых соблазнительных составляющих творческого процесса. Картинка начинает работать именно в момент появления зрителя. Все, что до того – подготовка этой встречи. Есть еще пара, не менее интригующих вещей - взаимодействие с плоскостью листа, холста, стены и пребывание одной ногой в той реальности, которую обозначаешь.
К.К.: Могла бы ты в этом случае, расширить идею маркирования искусства?
Л.Г.: Трудно сказать. Мне кажется, сейчас такое время, когда после длительной десакрализации маятник двинулся во второе положение своей амплитуды, все и вся пытается любым способом «присакрализироваться», «осакрализироваться», «новосакрализироваться». Возможно, это обычный внутренний противоречивый процесс.
В случае, когда объект не является изначально объектом искусства, не делается как произведение искусства и не содержит смыслов, составляющих дискурс искусства, а становится им через экспонирование в арт-пространстве, происходит смещение акцентов. Если у дадаистов такая подмена была наполненным смыслами открытием, новым этапом понимания и деконструкцией, сегодня она трансформируется скорее в утомительный своей формальностью спекулятивный жест или социальную манипуляцию. Наверно искусство состоит скорее в том, чтобы удержаться на грани, а не влипать в какое-то одно ролевое клише.